«Доктор Губерман, какого черта вы откопали там внизу?» – реплика из зала прервала доклад российского ученого на заседании ЮНЕСКО в Австралии. За пару недель до этого, в апреле 1995 года, по миру прокатилась волна сообщений о таинственной аварии на Кольской сверхглубокой скважине.
|
Исследования грунта доказывают: Луна оторвалась от Кольского полуострова
Кольская сверхглубокая в разрезе
Кольская сверхглубокая |
 |
Якобы на подходе к 13-му километру приборы зафиксировали странный шум, доносящийся из недр планеты, – желтые газеты в один голос уверяли, что так звучать могут только вопли грешников из преисподней. Через несколько секунд после появления страшного звука прогремел взрыв…
Космос под ногами
В конце 70-х – начале 80-х устроиться работать на Кольскую сверхглубокую, как запанибратски называют скважину жители поселка Заполярный Мурманской области, было сложнее, чем попасть в отряд космонавтов. Из сотен претендентов выбирали одногодвух. Вместе с приказом о приеме на работу счастливцы получали отдельную квартиру и зарплату, равную двойному-тройному окладу московской профессуры. На скважине одновременно работало 16 исследовательских лабораторий, каждая –размером со средний завод. С подобным упорством землю копали только немцы, но, как свидетельствует Книга рекордов Гиннеса, самая глубокая немецкая скважина чуть ли не вдвое короче нашей.
Отдаленные галактики изучены человечеством куда лучше, чем то, что находится под земной корой в каких-то нескольких километрах от нас. Кольская сверхглубокая – своеобразный телескоп в загадочный внутренний мир планеты.
С начала XX века считалось, что Земля состоит из коры, мантии и ядра. При этом никто толком не мог сказать, где кончается один слой и начинается следующий. Ученые не знали даже, из чего, собственно, эти слои состоят. Еще каких-то 40 лет назад они были уверены, что слой гранитов начинается на глубине 50 метров и продолжается до 3 километров, а затем идут базальты. Встретить мантию ожидалось на глубине 15-18 километров. В реальности все оказалось совершенно иначе. И хотя в школьных учебниках все еще пишут, что Земля состоит из трех слоев, ученые с Кольской сверхглубокой доказали, что это не так.
Балтийский щит
Проекты путешествия в глубь Земли появились в начале 60-х сразу в нескольких странах. Бурить скважины старались в тех местах, где кора должна была быть потоньше – целью было достижение мантии. Например, американцы бурили в районе острова Мауи, на Гавайях, где, по данным сейсмических исследований, древние породы выходят под океанское дно и мантия находится примерно на глубине 5 километров под 4километровой толщей воды. Увы, ни одна океанская буровая глубже 3 километров не пробилась. Вообще, почти все проекты сверхглубоких скважин мистическим образом заканчивались на 3километровой глубине. Именно в этот момент с бурами начинало происходить чтото странное: то они попадали в неожиданные сверхгорячие области, то их как будто откусывал какой-то невиданный монстр. Глубже 3 километров прорвались всего 5 скважин, из них 4 – советские. И только Кольской сверхглубокой было суждено преодолеть отметку 7 километров.
Первоначальные отечественные проекты также предполагали подводное бурение – в Каспийском море или на Байкале. Но в 1963 году ученый-буровик Николай Тимофеев убедил Государственный комитет по науке и технике СССР в том, что нужно создать скважину на континенте. Хотя бурить придется несравненно дольше, полагал он, скважина будет куда ценнее с научной точки зрения, ведь именно в толще континентальных плит в доисторические времена происходили самые значительные перемещения земных пород. Точку бурения выбрали на Кольском полуострове не случайно. Полуостров расположен на так называемом Балтийском щите, который сложен из самых древних известных человечеству пород.
Многокилометровый срез пластов Балтийского щита – наглядная история планеты за последние 3 миллиарда лет.
Покорительница глубин
Внешний вид Кольской буровой способен разочаровать обывателя. Скважина не похожа на шахту, которую рисует нам воображение. Никаких спусков под землю, в толщу уходит только бур диаметром чуть больше 20 сантиметров. Воображаемый разрез Кольской сверхглубокой скважины выглядит как тонюсенькая иголочка, пронзившая земную толщу. Бур с многочисленными датчиками, находящийся на конце иголочки, поднимают и опускают в течение нескольких дней. Быстрее нельзя: прочнейший композитный трос может оборваться под собственным весом.
Что происходит в глубине, доподлинно неизвестно. Температура окружающей среды, шумы и прочие параметры передаются наверх с минутным запаздыванием. Тем не менее, бурильщики рассказывают, что даже такой контакт с подземельем может не на шутку испугать. Звуки, доносящиеся снизу, и впрямь похожи на вопли и завывания. К этому можно добавить длинный список аварий, преследовавших Кольскую сверхглубокую, когда она достигла глубины 10 километров. Дважды бур доставали оплавленным, хотя температуры, от которых он может расплавиться, сравнимы с температурой поверхности Солнца. Однажды трос как будто дернули снизу –и оборвали. Впоследствии, когда бурили в том же месте, остатков троса не обнаружилось. Чем были вызваны эти и многие другие аварии, до сих пор остается загадкой. Впрочем, вовсе не они стали причиной остановки бурения недр Балтийского щита.
12 000 метров открытий и немного чертовщины
«Имеем самую глубокую дыру в мире – так надо пользоваться!» – горько восклицает бессменный директор научно-производственного центра «Кольская сверхглубокая» Давид Губерман. В первые 30 лет существования Кольской сверхглубокой советские, а затем российские ученые прорвались на глубину 12 262 метра. Но с 1995-го бурение прекращено: стало некому финансировать проект. Того, что выделяется в рамках научных программ ЮНЕСКО, хватает только на поддержание буровой станции в рабочем состоянии и изучение ранее извлеченных образцов пород.
Губерман с сожалением вспоминает, сколько научных открытий состоялось на Кольской сверхглубокой. Буквально каждый метр был откровением. Скважина показала, что почти все наши прежние знания о строении земной коры неверны. Выяснилось, что Земля вовсе не похожа на слоеный пирог. «До 4 километров все шло по теории, а дальше началось светопреставление», – рассказывает Губерман. Теоретики обещали, что температура Балтийского щита останется сравнительно низкой до глубины по крайней мере 15 километров. Соответственно, скважину можно будет рыть чуть ли не до 20 километров, как раз до мантии. Но уже на 5 километрах окружающая температура перевалила за 700C, на семи – за 1200C, а на глубине 12-ти жарило сильнее 2200C – на 1000C выше предсказанного. Кольские бурильщики поставили под сомнение теорию послойного строения земной коры – по крайней мере, в интервале до 12 262 метра. В школе нас учили: есть молодые породы, граниты, базальты, мантия и ядро. Но граниты оказались на 3 километра ниже, чем рассчитывали. Дальше должны были быть базальты. Их вообще не нашли. Все бурение прошло в гранитном слое. Это сверхважное открытие, ибо с теорией послойного строения Земли связаны все наши представления о возникновении и размещении полезных ископаемых.
Еще один сюрприз: жизнь на планете Земля возникла, оказывается, на 1,5 миллиарда лет раньше, чем предполагалось. На глубинах, где считалось, что нет органики, обнаружили 14 видов окаменевших микроорганизмов – возраст глубинных слоев превышал 2,8 миллиарда лет. На еще больших глубинах, где уже нет осадочных пород, появился метан в огромных концентрациях. Это полностью и совершенно разрушило теорию биологического происхождения углеводородов, таких как нефть и газ.
Демоны
Были и почти фантастические сенсации. Когда в конце 70х годов советская автоматическая космическая станция привезла на Землю 124 грамма лунного грунта, исследователи Кольского научного центра установили, что он как две капли воды похож на пробы с глубины 3 километров. И возникла гипотеза: Луна оторвалась от Кольского полуострова. Теперь ищут, где именно. Кстати, американцы, которые привезли с Луны полтонны грунта, так ничего толкового с ним и не сделали. Поместили в герметичные контейнеры и оставили для исследований будущим поколениям.
В истории Кольской сверхглубокой не обошлось и без мистики. Официально, как уже упоминалось, скважина остановилась изза недостатка средств. Совпадение или нет – но именно в том 1995 году в глубине шахты раздался мощнейший взрыв неустановленной природы. К жителям Заполярного прорвались журналисты финской газеты – и мир потрясла история о вылетевшем из недр планеты демоне.
«Когда меня об этой загадочной истории стали расспрашивать в ЮНЕСКО, я не знал, что ответить. С одной стороны, чушь собачья. С другой – я, как честный ученый, не мог сказать, что знаю, что же именно у нас произошло. Был зафиксирован очень странный шум, потом был взрыв… Спустя несколько дней ничего такого на той же глубине не обнаружилось», – вспоминает академик Давид Губерман.
Совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы Алексея Толстого из романа «Гиперболоид инженера Гарина». На глубине свыше 9,5 километров обнаружили настоящий кладезь всевозможных ископаемых, в частности золота. Настоящий оливиновый слой, гениально предсказанный писателем. Золота в нем 78 граммов на тонну. Кстати, промышленная добыча возможна при концентрации 34 грамма на тонну. Возможно, уже в недалеком будущем человечество сумеет воспользоваться этим богатством.
Автор: Юрий Грановский
Источник: Популярная механика
26 ноября в 11:00 на объекте по хранению и уничтожению химического оружия в городе Почеп Брянской области состоятся официальные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию шестого российского завода по уничтожению химического оружия.

 В память об освобождении Москвы установлен день празднования Казанской иконы Божией Матери — 4 ноября.
В память об освобождении Москвы установлен день празднования Казанской иконы Божией Матери — 4 ноября.



 В небе над Сочи прокладывают новые воздушные дороги. Самолет Ан-26, оснащенный самым современным оборудованием, выбирает оптимальные пути взлета и захода на посадку для судов всех классов. Воздушная лаборатория курсирует над городом по 8 часов в сутки, тестируя новую взлетно-посадочную полосу. Именно на нее во время Олимпиады ляжет основная нагрузка.
В небе над Сочи прокладывают новые воздушные дороги. Самолет Ан-26, оснащенный самым современным оборудованием, выбирает оптимальные пути взлета и захода на посадку для судов всех классов. Воздушная лаборатория курсирует над городом по 8 часов в сутки, тестируя новую взлетно-посадочную полосу. Именно на нее во время Олимпиады ляжет основная нагрузка. Молодежный Банк городского благотворительного фонда «Развитие» совместно с культурно-развлекательным центром «Россия» провели в Рубцовске «День Японии». Организаторы считают Японию страной контрастов: древние храмы соседствуют с современными небоскрёбами, а традиционное почитание горы Фудзиямы не уступает популярности последним новинкам электронной техники. На праздник были приглашены все, кому хотелось больше узнать об этой стране. «День Японии» начался с просмотра мультфильма «Ходячий замок Хоула». После все желающие смогли посетить мастер-классы по изготовлению оригами, суши. Также гости праздника посмотрели миниатюру в исполнении актеров «Театр улиц», послушали рассказы о Японии, стихи поэта Басё. Для всех зрителей прошли показательные выступления спортсменов Центра Кекушинкай каратэ.
Молодежный Банк городского благотворительного фонда «Развитие» совместно с культурно-развлекательным центром «Россия» провели в Рубцовске «День Японии». Организаторы считают Японию страной контрастов: древние храмы соседствуют с современными небоскрёбами, а традиционное почитание горы Фудзиямы не уступает популярности последним новинкам электронной техники. На праздник были приглашены все, кому хотелось больше узнать об этой стране. «День Японии» начался с просмотра мультфильма «Ходячий замок Хоула». После все желающие смогли посетить мастер-классы по изготовлению оригами, суши. Также гости праздника посмотрели миниатюру в исполнении актеров «Театр улиц», послушали рассказы о Японии, стихи поэта Басё. Для всех зрителей прошли показательные выступления спортсменов Центра Кекушинкай каратэ.
 Одиннадцатый Международный фестиваль искусств имени Андрея Сахарова «Русское искусство и мир» открывается сегодня Нижнем Новгороде.
Одиннадцатый Международный фестиваль искусств имени Андрея Сахарова «Русское искусство и мир» открывается сегодня Нижнем Новгороде. В Пекине начал работу виртуальный филиал Русского музея. У местных жителей появилась возможность, не покидая пределов Китая, увидеть шедевры древних мастеров.
В Пекине начал работу виртуальный филиал Русского музея. У местных жителей появилась возможность, не покидая пределов Китая, увидеть шедевры древних мастеров. Байкальскую воду теперь используют и для отопления музея в Иркутской области. Уникальную для России систему разработали местные специалисты. Это позволяет значительно экономить на энергии. К тому же, новая система отопления абсолютно безвредно для экологии.
Байкальскую воду теперь используют и для отопления музея в Иркутской области. Уникальную для России систему разработали местные специалисты. Это позволяет значительно экономить на энергии. К тому же, новая система отопления абсолютно безвредно для экологии.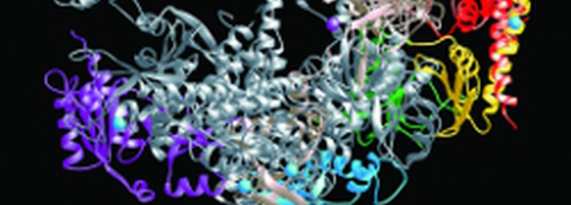
 24 сентября в Рыбинском музее-заповеднике открылась выставка «Иконы «романовских писем» на ярославской земле. Тайны и открытия забытой традиции». Она приурочена к двум крупным юбилеям: 1000-летию Ярославля и 100-летию Рыбинского музея. В рамках проекта «Первый показ», осуществляемого музеем-юбиляром, на выставке будут впервые в России собраны воедино около 40 икон из музейных и частных собраний: Рыбинского музея-заповедника, Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея, частных собраний Москвы, Ярославля, Рыбинска, Тутаева.
24 сентября в Рыбинском музее-заповеднике открылась выставка «Иконы «романовских писем» на ярославской земле. Тайны и открытия забытой традиции». Она приурочена к двум крупным юбилеям: 1000-летию Ярославля и 100-летию Рыбинского музея. В рамках проекта «Первый показ», осуществляемого музеем-юбиляром, на выставке будут впервые в России собраны воедино около 40 икон из музейных и частных собраний: Рыбинского музея-заповедника, Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея, частных собраний Москвы, Ярославля, Рыбинска, Тутаева.

